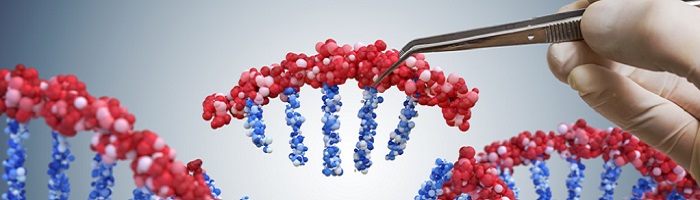Алексей Кондрашов рассказывает о своей лаборатории.
Лаборатория эволюционной геномики начала свое существование на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ в 2011 году. Тогда я получил мегагрант в рамках постановления No220 для проведения исследований по теме «Филогенетический анализ сложного отбора в молекулярной эволюции». Мы получили огромные деньги ($5 млн), на которые стали обустраивать лабораторию. На выделенные деньги мы смогли купить прибор нового поколения Illumina HiSeq2000 для секвенирования (определения генотипов), с огромной производительностью, вычислительный кластер для хранения и обработки этих огромных данных, а также построили дополнительную лабораторию на Беломорской биостанции МГУ, поскольку одна из наших работ связана с молекулярно-генетическим изучением биоразнообразия. Лаборатория наша изучает эволюционную геномику экспериментально и теоретически. Общая цель наших исследований — изучение естественного отбора на геномном уровне. Но не только. Здесь также занимаются многими другими аспектами эволюционной, популяционной, функциональной и медицинской геномики. Мы не ставим перед собой одной конкретной биологической задачи, наша «бизнес-модель» другая: мы берем самые интересные маленькие вопросы и стараемся их решать. Мы биологи широкого профиля, и нас интересуют разные эволюционные вопросы. Особенность нашей лаборатории состоит в том, что в ней сосуществуют два направления: «сухое» и «мокрое», теоретическое и экспериментальное. В ней одновременно работают математики, никогда в жизни не державшие в руках пипетки, и молекулярные биологи, никогда не учившие теорию алгоритмов; они взаимодействуют и дружат. Это непросто, но такой симбиоз исключительно выгоден. Совместное существование экспериментального и теоретического компонентов науки всем идет на пользу. Теорией можно заниматься и не имея никаких секвенаторов: данных сейчас столько, что можно анализировать их всю жизнь, — но собственный секвенатор дает возможность получать свои данные, что кажется нам важным.
Пять задач мегагранта
Первое время мы в основном работали над пятью задачами, которые были сформулированы в заявке на мегагрант. Все они чисто теоретические — это тяжелая эволюционная биология. Все заявленные задачи мы выполнили. Один из наших больших проектов — изучение свойств адаптивных ландшафтов: например, что происходит, если в последовательности эволюционирующих видов какой-нибудь белок теряет кусок, как это событие влияет на всю молекулу в целом. Оказывается, что после того, как из белка выпал кусок, соседние участки в нем начинают быстро эволюционировать, подстраиваясь под новую реальность. Это как человеку, которому вырезали кусок кишечника, нужно некоторое время, чтобы научиться жить с этим урезанным кишечником. Мы посмотрели, сколько времени нужно белку и какой длины получается эта «адаптивная прогулка», и обнаружили, что белку, чтобы перестроиться, достаточно всего нескольких аминокислотных замен. Отдельно мы изучили ситуацию случайной замены аминокислоты в белке: насколько это необратимо? Мы показали, что недавно замененная аминокислота часто восстанавливается, но чем больше проходит времени от этого события, тем вероятность обратной замены меньше, потому что белок за счет эволюции в других местах забывает, как ему работать с этой старой, заменившейся, аминокислотой. Эти результаты представляются мне очень интересными. Работа, которой я особенно горжусь, — это разработанный нами метод обнаружения положительного отбора, действовавшего в прошлом. Положительный отбор—это классический дарвиновский отбор, который благоприятствует редкому, но полезному варианту гена и приводит к изменениям (если отбор благоприятствует частому варианту, то он называется отрицательным и к изменениям не приводит, а поддерживает status quo). В качестве примера такого положительного отбора можно привести способность людей пить молоко. Нормальное млекопитающее не может пить молоко во взрослом возрасте, потому что у него перестает вырабатываться фермент лактаза, отвечающий за расщепление молочного сахара. В двух человеческих популяциях 7–8 тысяч лет назад, когда была одомашнена корова, возникла поломка этого отключателя производства лактазы у взрослых: в Северной Африке и в Северной Европе. Те и другие научились пить молоко во взрослом возрасте. Когда возникает такая полезная мутация, отбор начинает ее быстро распространять. Но мы ничего не знаем о положительном отборе на уровне генотипов; находить такие случаи очень трудно. Метод, который мы придумали, основан на очень простой идее: после того, как редкий полезный аллель вытесняет другой, этот редкий вариант становится частым. То есть положительный отбор со временем превращается в отрицательный. Мы придумали, что если посмотреть на современный отрицательный отбор, то можно понять, каким был в прошлом положительный. Это довольно тривиальная мысль, но до нас этого никто не придумал. Кроме того, мы изучили причины скоррелированных замен в соседних сайтах. И здесь получили не совсем то, что ожидали. Когда в каком‑то месте генома происходит замена нуклеотида, можно ожидать, что от этого в соседних местах меняются условия и это повлечет возникновение замен и по соседству. Мы проверяли, есть ли здесь корреляция. Корреляцию мы обнаружили и показали, что это явление гораздо более распространено, чем считалось ранее, и что оно вызвано в основном одновременными или почти одновременными заменами многих нуклеотидов. Однако природа его, видимо, не селекционная, а мутационная. Еще одна наша работа была посвящена изучению эволюции геномов далеко дивергировавших видов: общий предок млекопитающего и асцидии (животного, принадлежащего к подтипу оболочников или личинкохордовых—Urochordata) жил 600–700 млн лет назад. Участки генома, которые унаследованы теми и другими от этого общего предка, настолько дивергировали, что опознать их напрямую мы уже не можем. Но при этом они могут продолжать выполнять некую функцию, которую они (может быть, с некоторыми модификациями) выполняли на протяжении всех этих миллионов лет. Мы придумали способ обнаружения таких участков. Для этого не нужно сравнивать млекопитающих с асцидиями — это ничего не даст, — а нужно сравнивать между собой разных млекопитающих и разных асцидий. Эти эзотерические вопросы эволюционной биологии относятся к «сухим» исследованиям, в которых мы анализируем не свои, а чужие данные. Помимо этих пяти задач, мы работаем и над другими проектами.
«Мокрые» исследования
Мы начали большой проект с байкальскими гаммарусами (рачки‑бокоплавы). На Байкале живут сотни видов эндемичных гамарусов, все они там возникли и только там встречаются. Это так называемое скопление видов, которое интересно уже само по себе: таких явлений в мире очень немного. Кроме того, это замечательный ресурс для изучения разнообразных теоретико‑эволюционных вопросов. Мы секвенируем транскриптомы разных видов этих гаммарусов, чтобы изучить процессы, сопровождавшие быстрое видообразование. Я надеюсь, что по этим гаммарусам мы сделаем много хороших работ. Например, исходя из теории катастроф, мы можем ожидать, что в медленном и размеренном течении эволюции иногда вдруг могут происходить очень резкие быстрые изменения. Гипотеза заключается в том, что периодически безо всякой внешней провокации должны наблюдаться рывки, в результате которых происходит резкий переход из одного устойчивого состояния в другое. То есть общематематические соображения предсказывают, что белок какое‑то время эволюционирует медленно, а потом вдруг начинает эволюционировать очень быстро: раз — и несколько аминокислот в нем поменялось. Так выглядит теория, но в реальности этого никто никогда не видел. Для проверки этой гипотезы нужны богатые филогенетические данные большого количества очень близких видов. Если мы найдем такие спонтанные бифуркации — броски в эволюции белков, — будет очень интересно. Но здесь интересен будет любой результат. Из завершенных работ — мы сделали геномный анализ адаптации трехиглой колюшки к пресной воде. Эта морская рыбка замечательна тем, что становилась пресноводной несколько раз. Мы сравнивали генотипы трехиглой колюшки из популяций Белого моря и соседних с ним пресноводных озер и смотрели, за счет каких генетических изменений она приспосабливалась к жизни в пресной воде. Оказывается, в процессе приспособления в ней идет много параллельных изменений, то есть адаптация к пресной воде происходила несколько раз независимо. Еще мы открыли самый изменчивый вид на свете — гриб под названием «шизофиллум» (Schizophyllum Commune). Его внутрипопуляционная изменчивость необыкновенно высока, она составляет почти 15%—это больше, чем отличие человека от макаки. Два человека отличаются на 0.1%, а два шизофиллума из одной популяции—на 15%, межпопуляционные отличия у него еще больше — 25%. При этом они свободно скрещиваются. В связи с этим возник вопрос: как происходит кроссинговер? Мы этот вопрос изучили. Оказалось, что для кроссинговера они выбирают участки хромосом с максимальным локальным сходством. Большое количество работ мы сделали по зоологии беспозвоночных на Беломорской биостанции МГУ. Мы ведем систематическое изучение внутрипопуляционной изменчивости макроскопических животных и водорослей, обитающих в Белом море. Мы изучили более 100 популяций и описали больше десятка видов‑двойников. Наш главный результат за прошлый год — это медуза. В Белом море водятся крупные медузы Cyanea Arctica. Мы обнаружили, что это не один вид, а два. Новый вид назвали в честь директора биостанции Александра Борисовича Цетлина. Мы нашли в Белом море такое явление: митохондриальная интрогрессия — когда у всех (либо у части) представителей одного вида митохондрии не свои, а заимствованы у какого‑то другого вида. Например, у некоторых особей одного из видов морских ежей митохондрии принадлежат другому виду. То есть какая-нибудь их пра-пра-прабабушка принадлежала другому виду, но кроме митохондрий, от этой истории никаких следов не сохранилось: весь ядерный геном у них типичный. Оказалось, что в Белом море таких случаев очень много. Еще одно важное дело, которое мы сделали на Беломорской биостанции, — мы преобразовали процесс обучения студентов: они проходят практику у наших сотрудников и на нашем оборудовании. И такой практики нет, кажется, больше нигде: студенты‑третьекурсники собственными руками проделывают весь цикл работ — от отлова зверей до секвенирования, занесения результатов в Genbank и, в случае обнаружения чего-то интересного, публикации статей.
Рак—это эволюционная болезнь
Главное, что нужно понимать про эволюционную науку, — что сама по себе она бесполезна. Ее бессмысленно пытаться как‑то коммерциализовать, хотя разговоры об этом идут постоянно. Если объект, который эволюционирует, интересен кому‑то, кроме нас, это хорошо. Байкальские гаммарусы, например, совершенно никому не нужны, а вот вирусы интересуют многих. У нас есть несколько прикладных задач. К ним относятся наши онкологические исследования, которые мы делаем в сотрудничестве с медиками. Рак — это эволюционное заболевание, потому что он возникает, когда клетка начинает эволюционировать в собственных интересах, а ее интерес в том, чтобы как можно больше делиться. Мы анализируем геном больных гепатокарциномой (опухоль печени): сравниваем геном здоровых и больных клеток и пытаемся понять, какие при этом ломаются регуляторные пути. Каждый больной — это независимая эволюция, и если мы увидим, что в большинстве случаев сломан один и тот же ген, значит, он и сидит в регуляторном пути, который ломается при гепатокарциноме. Этим мы только начали заниматься, но медики говорят, что мутации, которые мы нашли, очень интересны. В такой работе нет ничего оригинального, сейчас этим занимается весь мир, но это хорошая деятельность. Еще мы занимаемся изучением эволюции вируса гриппа. У вирусов можно иногда наблюдать некое подобие полового размножения — реассортацию. Когда одну клетку инфицируют два разных вируса, из нее выходит гибридная вирусная частица, которая имеет в себе два типа молекул: от вируса «папы» и от вируса «мамы». Многие самые серьезные эпидемии (из последних — эпидемия «свиного» гриппа) возникли в результате таких реассортаций. Оказывается, после реассортации в белках вируса происходят вспышки быстрой эволюции. И по характеру таких вспышек: как долго они длятся и как далеко заводят, — можно многое сказать про эволюцию этих вирусов. Реассортация вирусов — очень интересное явление, но все любят писать, что мы изучили, как эволюционируют вирусы, и это нам поможет сделать вакцину. Это не так, наша работа совсем про другое. Я не люблю таким образом продавать свою науку. Мы надеемся работать и дальше. Мегагрант нам дали на 2011–2013 гг., с возможностью продления на два года. Но пока на нашу научную деятельность это повлияло минимально: очень много проектов нужно доделывать, и какое‑то время мы будем работать по инерции. У нас есть еще несколько небольших грантов, и мы пытаемся изыскать деньги на дальнейшую работу. Лабораторий, как наша, в России больше нет: теоретическими эволюционными вопросами больше почти никто не занимается. Здесь просто нет теоретико-эволюционной школы, люди не думают таким образом, и студентов учить этому некому. К нам постоянно приходят студенты, но школа не может состоять из одной лаборатории, для этого нужна научная среда.
Читать подробнее: Коммерсант Наука